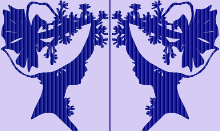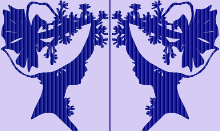По сути, как бы ни формулировался запрос клиента на работу с терапевтом, это всегда, так или иначе, работа с человеческими отношениями. В нашей культуре не так-то просто быть и чувствовать себя самим собой. Нам гораздо более знакома «фасадная» часть собственной личности – то, что мы привычно и особо не задумываясь, предъявляем окружающим. Думаю, что любой человек стремится к тому, чтобы производить на окружающих приятное впечатление. И чаще всего мы нарабатываем эти навыки, сознательно или не очень, руководствуясь какими-то правилами, впитанными с самого раннего детства. Очень распространенное и практически не подвергающееся сомнению или переосмыслению правило –
«обращайся с другими людьми так, как бы тебе хотелось, чтобы обращались с тобой». А чего тут задумываться-то? Если хочешь, чтобы люди обращались с тобой вежливо, любезно и дружелюбно, сам и веди себя соответственно.

Бесспорно, внутренняя жизнь каждого человека – это огромный мир, масштабы которого, в принципе, определить нереально. Никто из нас ничего не знает про других людей, и как бы мы ни тешили себя мыслями, что «уж его-то я знаю, как облупленного», это не более чем наши иллюзии. Да что там про других людей, мы и про себя-то практически ничего не знаем. Мало того, человека, склонного к самокопанию (рефлексии), окружающие, как правило, осуждают. Даже в самом этом слове – самокопание – уже звучит доля осуждения. Ну, вроде как «не туда тебя, друг, несет: дело надо делать, а не ковыряться в своих переживаниях». И до поры до времени этот императив действительно помогает(!).
Свои глубинные внутренние потребности можно игнорировать достаточно долгое время. Знаете, как иногда родители не понимают, что же нужно их чадушке – «сыт, обут, одет – чего ему еще надо-то?». Мало того, что родители не понимают, он и сам не в состоянии понять, а чего ему надо-то? Возникает, правда, у него ощущение, что никому, по существу, до него нет дела, а уж если к нему и обращаются, то с каким-нибудь очередным требованием или критическими замечаниями («это для твоего же блага!»). Ну, а так – «все нормально, как у всех». Думаю, что подростковые кризисы в гораздо большей степени порождаются подобными переживаниями, чем гормональными всплесками.
Но и это еще не все, как теперь говорят в рекламе. Так или иначе, почти все мы в душе имеем с детства еще один императив, вытекающий из первого, который практически и не доходит до сознания, но в большой степени регулирует наши отношения с другими людьми. Звучит он примерно так – «если ты будешь хорошо себя вести (быть хорошим), с тобой другие тоже будут обращаться хорошо, ну а уж если у тебя что-то не так, значит, сам виноват (или, уж совсем по-детски, сам плохой)».
Ну, конечно же, каким человек должен быть, ему уже с детства доходчиво объяснили. Здесь возможны варианты, но, по сути, все равно смысл сводится к тому, что человек должен обладать определенным набором «добродетелей». Причем, как правило, в этом наборе «добродетели», мягко говоря, противоречат друг другу. Самый простой пример – надо быть добрым, щедрым и великодушным, но при этом уметь постоять за себя или отстаивать свои интересы. Если вы пытаетесь двигаться к личностному развитию в одном из этих направлений («мне не хватает силы воли»), вы будете автоматически уходить от другого. Ну, или быть щедрым и все отдать, или отстаивать свои интересы, но тогда уж, извините.
Любому мальчику с самого раннего детства внушают, что надо быть мужественным, сильным и отважным, но при этом не быть «дураком» и не лезть на рожон. В общем, наше воспитание все равно приводит человека, в лучшем случае, к невротическому раздраю, так или иначе. Впрочем, в реальной кризисной ситуации, когда нет времени на размышления и колебания («что делать – ударить или убежать?»), человек все равно инстинктивно мгновенно примет решение – что важнее – если, конечно вы – не специально тренированный боец ОМОНа. Впрочем, эти ребята тоже действуют автоматически, практически на уровне инстинкта. А все моральные переживания, за свою ответственность в сложившейся ситуации, за выбор действия, за свою ответственность в этом выборе – это уже на потом. Их же все равно не избежать.
Хорошо еще, если человек – пофигист, но такие люди гораздо реже обращаются к психологу за помощью.  А вот непофигист, т.е. человек, с самого раннего детства хорошо усвоивший, что надо быть «хорошим», чтобы его любили, будет иногда просто изводить себя этими переживаниями, даже особо не задумываясь о том, что это в принципе невозможно – удовлетворить всем этим противоречивым требованиям. «А раз я не могу быть таким, каким должен, чего же я могу хотеть?» И, как правило, в таком случае человек ищет возможность что-либо «усовершенствовать» в себе, для того, чтобы все-таки получить то, чего ему не хватает. Вот только самому бы еще понять, а чего хочу-то, чего ради прилагаю всевозможные, а иногда и чрезмерные усилия?
А вот непофигист, т.е. человек, с самого раннего детства хорошо усвоивший, что надо быть «хорошим», чтобы его любили, будет иногда просто изводить себя этими переживаниями, даже особо не задумываясь о том, что это в принципе невозможно – удовлетворить всем этим противоречивым требованиям. «А раз я не могу быть таким, каким должен, чего же я могу хотеть?» И, как правило, в таком случае человек ищет возможность что-либо «усовершенствовать» в себе, для того, чтобы все-таки получить то, чего ему не хватает. Вот только самому бы еще понять, а чего хочу-то, чего ради прилагаю всевозможные, а иногда и чрезмерные усилия?
Как ни странно это может показаться, но иногда клиент, пытаясь объяснить, что же именно плохо и чего ему не хватает, не может сам этого определить словами. То есть что-то, так или иначе, предъявляет, но сам себе кажется малоубедительным. Вроде бы запрос на помощь есть, но найденные им слова или сама предъявляемая проблема явно не соответствует глубине переживаний этого человека. И тогда бывает, что после нескольких мучительных попыток объяснить свое состояние, человек с изрядной долей недоумения спрашивает – «У меня же все есть – может, я с жиру бешусь?» Или, бывает, что готов работать с предъявляемой частью проблемы и работает с ней, но при этом все равно внутри сохраняется ощущение, что вроде бы все происходит правильно, но чего-то не хватает. По ощущениям похоже на недоумение и какую-то смутную неудовлетворенность.
В действительности же, можно предположить, что у человека есть какая-то очень сильная внутренняя потребность, которую он сам опознать просто не в состоянии. «Ну, просто плохо и все, а чего хочу – не знаю». По-видимому, у него существуют какие-то жесткие глубинные запреты на ее выявление и осознавание. А это уже история из детства. Если в детстве нельзя было жаловаться, просить, проявлять агрессию (это когда родители способствуют не столько выявлению истинной потребности ребенка, сколько ее подавлению), если в ответ на это в детстве человек получает эмоциональное отвержение в более или менее жесткой форме, то у него просто не формируется опыт близких отношений с другими людьми. Ну, попробуй, пожалуйся или потребуй что-то у родителей, тебе тут же объяснят, кто ты такой, где твое место и как ты должен себя вести («не хнычь!», «не кричи!», «и вообще, щас позову бабу-ягу!»).

Родители еще более или менее признают законное желание ребенка получить новую куклу или велосипед. Но вот если он ноет «просто так» и не может объяснить, чего хочет («капризничает»), тогда уж точно – остракизм или суровые репрессии.
Безусловно, каждый из нас вынужден приспосабливаться к тем условиям, в которых живет. Вот и приспосабливаемся разными способами: покупая ли доброе отношение к себе ценой каких-либо жертв со своей стороны, требуя ли внимания и заботы ценой ссор и упреков, уходя ли в какие-нибудь дела или болезни, да мало ли возможностей! И ведь правда бывает, что такие усилия действительно позволяют получить хорошее отношение со стороны близких, какую-то заботу и внимание или хотя бы избежать некоторых неприятностей. Хотя, впрочем, нередко у клиента при этом возникает что-то вроде самоосуждения или чувства вины перед близкими – «они хорошие люди, это я – сволочь – их мучаю (или не оправдываю их ожиданий)». В таком случае, как правило, клиент приходит с запросом по типу «мне не хватает уверенности в себе (терпения, силы воли или чего угодно другого)». Ну, это уже хорошо – по крайней мере, можно хоть как-то начать разговор. Ведь нужен же человеку хоть какой-то повод для того, чтобы начать этот непростой разговор.
Но тут, в глазах клиента возникают разного рода опасения по поводу того, а может ли терапевт-то понять (или почувствовать), в чем реальная и истинная причина его обращения. И это, действительно, порождает очень много напряжения и тревоги – если терапевт не почувствует этого глубинного напряжения (в том, что невозможно передать словами, как когда-то в детско-родительском опыте), тогда разговор пойдет «по поверхности», не затрагивая очень важных вещей. А уж если он почувствует что-то, то, чего доброго, начнет «лезть в душу», куда его особо приглашать-то и не хочется (опять из того же детско-родительского опыта – «а чего от него ждать-то, кроме критики?»).
В общем, непонятно, как передать другому человеку (как подобрать подходящие слова) свои мучительные или дискомфортные ощущения, тем более, что именно присутствие этого другого человека и порождает (или усиливает) этот самый дискомфорт, напряжение и тревогу. Нормальный, привычный по жизни, деловой подход – «заходи смело, говори дело, уходи быстро!» – вроде бы здесь как-то не очень приемлем, а сидеть, что-то невразумительное мычать, мучительно подбирая слова, - вроде бы, буду выглядеть «по-дурацки» в глазах другого человека. Получается какой-то замкнутый круг.
Думаю, что это наиболее распространенные опасения, которые мешают обратиться за помощью как раз в том случае, когда такая помощь необходима человеку более всего. Я имею в виду то, что люди, испытывающие как раз подобного рода трудности в человеческих отношениях, как правило, и затрудняются с обращением к специалисту. Да и что это за специалист такой – «по человеческим отношениям»? В конце концов, так или иначе, любой человек адаптирован к социуму, ну, может быть, за исключением явной патологии (помните «человека дождя»?)
Впрочем, если человек может чувствовать себя по-настоящему легко, свободно и естественно в общении с другими, то вряд ли у него есть потребность в помощи психолога. Впрочем, об этом чуть ниже.
Страх близости, дистанция, стрессовые переживания в близких отношениях.
Все те непередаваемые словами глубинные ощущения, которые создают очень или не очень сильный, но все же дискомфорт, в общем, и определяют характер работы. Если нет явного запроса или если помимо явного конкретного запроса есть и еще что-то (напряженность, настороженность, неловкость – да любой дискомфорт), тогда сами отношения и становятся предметом работы.
Действительно, в процессе психотерапевтической работы, длительной или не очень, так или иначе, складываются какие-то отношения между двумя людьми – терапевтом и клиентом. Здесь возможны разные варианты и это в большой степени зависит от готовности обеих сторон.
Поразительно, насколько болезненно и тяжело переживание глубинного чувства одиночества (на уровне ощущения, что «я не такой, как другие», что «меня никто не может понять»), насколько важно и необходимо для человека иметь близкие отношения с другими, и насколько это невозможно для многих людей. Помните замечательную шутку, что «переспать с девушкой – это еще не повод для того, чтобы с ней познакомиться»? Переспать-то – не проблема, можно даже имя спросить, а вот дальше-то что делать?
Думаю, что любому человеку необходимо, чтобы его принимали таким, какой он есть, а по сути, предъявить себя настоящего другому человеку очень страшно и практически невозможно. Думаю, найдется очень мало людей, у которых не было бы нужды удерживать внутри (защищать?) что-то хрупкое, беспомощное и очень уязвимое. Это очень рискованно – снять маску, снять защиты и оказаться самим собой рядом с другим человеком. Да и можно ли ему доверять? Если какие-то попытки в прошлом заканчивались травматическим опытом, и особенно, если другого опыта, кроме травматического и вообще не было, вполне возможно, что выстраивание близких отношений ему просто недоступно. Вот и получается, что такому травматику просто незнакомо само ощущение, что от другого можно получить тепло, нежность и любовь. Люди, имеющие в прошлом такой травматический опыт, просто не знают, как предъявить свой запрос на работу с психологом. Вот тогда его запрос и звучит примерно так, «просто плохо и все, а чего хочу – не знаю». Ну, уж точно «жизнь не мила».
Ну не приходит человеку в голову, что нет нужды заслуживать тепло, нежность и любовь, ну не получал он такого прежде! Весь прежний опыт подталкивает к тому, что надо что-то сделать для этого. Но сделать так, чтобы самому остаться в безопасности, т.е. защищенным. Т.е. человек готов отдавать свое тепло и заботу другим в надежде, что и взамен получит то же самое, но получить-то этого как раз и не может. Ну, не было такого в его опыте. Сколько бы он ни читал книг и ни смотрел фильмов про любовь, это ощущение, что он сам по себе, независимо от его достоинств и заслуг, кому-то дорог и нужен, ему просто незнакомо.
Очень часто люди, сами испытывающие дефицит тепла и заботы, стремятся заботиться о других. Это очень любопытный феномен – когда человеку очень хочется или просто необходимо, чтобы о нем позаботились в какой-то сложный для него момент, он сам уже из последних сил пытается позаботиться о других. Думаю, такой способ взаимодействия как раз базируется на том императиве – «обращайся с другими так, как бы ты хотел, чтобы обращались с тобой». А в результате, естественно, неудовлетворенность и не оправдавшиеся ожидания.
Риск оказаться открытым и беззащитным, когда уже нет больше сил переживать, по сути, одиночество и беспомощность, и когда больше всего нужна поддержка, оказывается для травматика непомерным. Само ощущение, что от близости другого человека может стать еще хуже, когда хуже уже некуда… Все равно, что спасаясь от пожара, кидаться в пропасть. Ничего себе – выбор… Ну, ведь жил же он как-то до сих пор, можно и дальше как-то прожить – используя более или менее подходящие суррогаты…
Что за потребность у людей, с головой уходить в работу? Или бросаться в какие-то случайные сексуальные связи? Или, что еще проще, выпивать регулярно в теплой компании – «ты мэнэ уважаешь?»
Или бросаться в какие-то случайные сексуальные связи? Или, что еще проще, выпивать регулярно в теплой компании – «ты мэнэ уважаешь?» Впрочем, чаще люди выбирают какие-то социально приемлемые формы «адаптации». К примеру, трудоголик и алкоголик все-таки окружающими воспринимаются по-разному. И общественные симпатии скорее окажутся на стороне первого. Почет ему и уважение, хотя самому, правда, не очень понятно, а в выходные-то что делать?
Впрочем, чаще люди выбирают какие-то социально приемлемые формы «адаптации». К примеру, трудоголик и алкоголик все-таки окружающими воспринимаются по-разному. И общественные симпатии скорее окажутся на стороне первого. Почет ему и уважение, хотя самому, правда, не очень понятно, а в выходные-то что делать?
Кстати говоря, воспоминания о самих травматических эпизодах, как правило, из памяти вытесняются, вытесняются даже воспоминания о своих переживаниях в тот момент. Похоже, что остается лишь блок где-то в бессознательном – «нет!, ни за что!, нельзя!» – и красный сигнал «Опасность! Опасность!» автоматически включается и начинает тревожно мигать.
Очень трудно самому принимать себя таким, какой я есть. Практически любой человек в глубине души (в бессознательном) имеет какой-то эталон (образец, идеал), до которого, чувствует, что не дотягивает. Похоже, этот «идеал», в отличие от меня реального, как раз и сумел объединить в себе все эти противоречивые «добродетели». Ну, на то он и идеал. Не зря пишу «в бессознательном», потому что на сознательном уровне (головой) каждый понимает, что он – просто человек, т.е. предполагается, что имеет и достоинства, и недостатки. Вот эта разница между собой реальным и идеалом и порождает то самое внутреннее напряжение. Вроде бы головой мы все понимаем, что никто не совершенен, но на практике в момент, когда возникает ощущение близости (или интимности) – парализующий страх или, наоборот, отчаянное сопротивление «не приближайся!» Тот самый страх – «сейчас увидит мои слабые места… Ой, что же будет!..» А, собственно, что же будет? Тотальная критика? Указание на «отдельные недостатки»? Отвержение?
Иррациональный страх из самого раннего возраста («я не такой, каким должен быть, и сейчас это станет заметно!») как раз и включает тот самый сигнал «Опасность». Ну, как же с этим можно пускаться в близкие отношения? Остается только закрываться и защищать эти «слабые места», причем реакция бывает мгновенной. Тело сжимается, дыхание перехватывает. Иногда можно увидеть даже вегетативную реакцию, такую как расширение зрачков, побледнение или покраснение. Какое уж тут тепло или искренность, тут уж главное – выжить, ну, или в облегченном варианте, – «не потерять лицо». Хотя, впрочем, в такой момент лицо больше чем когда-либо напоминает маску.
Вот задачка-то – приходится удерживать себя как раз от того, что на данном этапе необходимо уже почти как воздух. Думаю, что на необитаемом острове вряд ли такая проблема могла бы иметь место.
Вообще говоря, я сейчас пишу про ту интимную близость, про которую в нашем обществе как-то особо и не принято понимать. Может быть, это то, что раньше у нас называли «душевностью» или «сердечностью»? В общем-то, она не очень знакома и не очень понятна нашим современникам. Ну, разве что вспомним какую-нибудь бабушку, не очень интеллектуальную, не очень образованную, но зато в ее присутствии было как-то тепло, уютно и совсем безопасно. Рядом с ней не нужно было «делать лицо», она и так любит (если, конечно, вам так повезло в жизни).
А вот тут, похоже, мы уже и подобрались к следующему вопросу – что же это за потребность-то и что за страх? Чем манит и чем угрожает такая близость? Запрос, сформулированный клиентом – «у меня такая-то проблема… Можете ли вы мне помочь?» – если чуть приоткрыть его содержание, по сути, думаю, сводится к тому, чтобы человеку помогли почувствовать себя собой, но при этом дополнительно не травмировали. На уровне переживаний это звучит примерно «очень хочу, очень надо, но очень боюсь». И, стремясь к этому теплу, необходимому для нормальной психической жизни, практически любой человек чуть ли не на уровне инстинкта будет дистанцироваться, или уходя в рассуждения, или погружаясь вглубь себя, или отчаянно защищаясь, чтобы совсем уже не «снесло крышу» (но это уже когда уровень страха просто «зашкаливает»). Когда «зашкаливает», практически невозможно управлять собой. В общем, приходится, как тому мотыльку, оберегать крылышки.
Фрустрация и депривация потребности в близости и тепле.
Дело в том, что помимо базовых жизненных потребностей (еда, вода, физическое тепло, безопасность), о которых прекрасно знает любой человек, у каждого из нас есть еще и другие. Думаю, что любой человек согласится с тем, что ему необходимы еще и хорошее отношение со стороны окружающих – их симпатия, любовь, уважение, интерес, эмоциональное принятие… Без удовлетворения базовых потребностей человеческий организм просто погибает и, если вы читаете эти слова, стало быть, ваши базовые потребности удовлетворены вполне неплохо. А вот что касается тех других, не базовых... Здесь все намного сложнее.
Вряд ли найдется человек, который не слышал или не читал бы этих слов – симпатия, уважение, любовь… Так или иначе, каждый имеет представление о том, что это такое Но вот, что нужно сделать для того, чтобы «заслужить» право быть любимым или для того, чтобы вызывать у окружающих симпатию… А уж если приходится «заслуживать», тогда опять получается, что надо что-то делать, вместо того, чтобы просто быть. «Ну, как же можно быть собой, когда идеал-то для сравнения всегда у меня с собой. Я-то ведь внутри слабый, растерянный, беспомощный, или наоборот, злой, рассерженный, агрессивный…»
Как тут предъявить себя настоящего-то? Ну, что – растерянным? рассерженным? Нехорошо ведь это, даже неприлично как-то. Мы же с детства всегда готовы услышать критические оценки и, причем, именно в тот момент, когда мы растеряны или рассержены, и когда нам больше всего необходимы тепло, любовь и поддержка. И не за какие-то особые заслуги, а просто потому что «я есть!». С детства мы приучены не очень-то доверять близким. В традиции нашей культуры родительская любовь как-то уж очень сильно связана с требовательностью («это для твоего же блага!») И зачем она нужна – такая любовь и забота? Может проще вообще отказаться от своего желания?
Вот и усваиваем мы с самых ранних лет – не очень-то доверяй, сейчас опять под видом нежной родительской любви получишь «гравий в шоколаде», а переживая обиду и злость на них, еще себя же и обвинять – «а может, они и правда мне добра хотят?». Ну откуда же человеку знать-то, что это за продукт такой и с чем его едят?
Совсем примитивный пример. Если человек знает, что именно сейчас ему больше всего хочется съесть что-нибудь сладкое (потребность такая в данный момент!), но возможности такой у него нет, тогда неудовлетворенность, раздражение и какое-то «сосущее» чувство внутри. Тогда можно говорить, что эта потребность фрустрирована.
А вот, если вы представите себе человека, который никогда в жизни даже не пробовал сахара, то, думаю, согласитесь, что, как бы сильно ни переживал он эту свою неудовлетворенность, он никогда не догадается, что же ему необходимо. Тогда его раздражение и «сосущее» чувство придется, скорее всего, списать на его скверный характер, или «детские капризы», или что угодно другое, но точно, ни он сам, ни окружающие (особенно, если они и сами не пробовали сахара) не поймут – «а чего ему надо-то?» В таких случаях, как правило, мы и пытаемся удовлетворить свои потребности (заменить этот неопознанный предмет) чем-нибудь более знакомым и привычным. И даже, если этот несчастный кусок сахара лежит на столе, далеко не каждый человек рискнет попробовать.

Вот эта самая «непонятность», чего не хватает, как раз говорит о том, что все намного серьезнее. Это уже не фрустрация, это депривация потребности, это когда человек действительно ничего не знает о том, что ему необходимо. Впрочем, от этого ему не легче.
Может быть, это и не совсем удачный пример, но зато вполне забавная иллюстрация к одному старому анекдоту.
Диалог в постели:
- Ты меня любишь?
- А что же я еще, по-твоему, делаю? 
Елена Зарубина
Мой e-mail: psotrajenie@narod.ru
06.02.2006